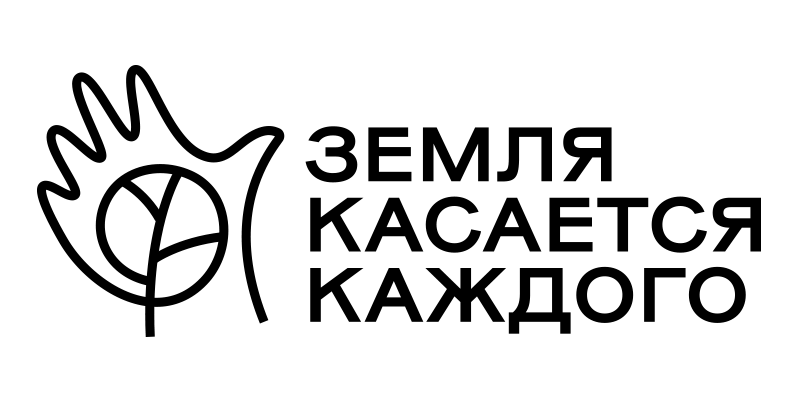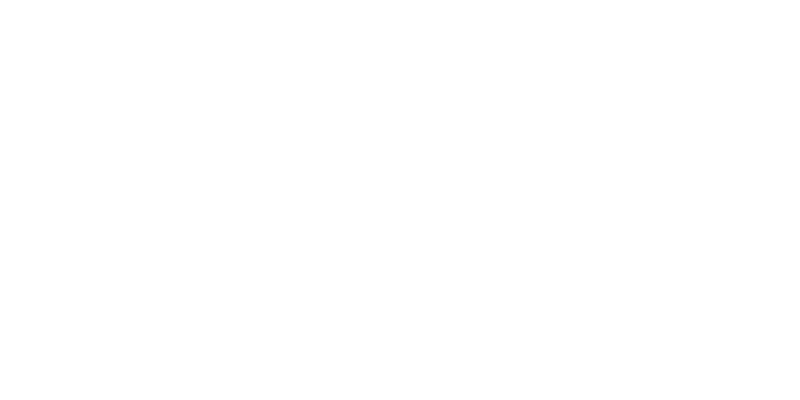Посадка леса, лесных деревьев, многими людьми воспринимается как что-то однозначно доброе, полезное для природы, как важный шаг к тому, чтобы площадь лесов росла, а не сокращалась в результате вырубок и пожаров. Увеличение площадей лесовосстановления, в том числе посадки лесов, было и остается главнейшей целью федерального проекта "Сохранения лесов". Посадка леса на протяжении более чем столетия остается самым привлекательным для людей делом из всего, чем занимается лесное хозяйство. Сейчас около десяти процентов всех деревьев, выращиваемых в российских лесных питомниках, высаживается на постоянное место добровольцами в рамках общественных мероприятий и кампаний.
Однако, в некоторых ситуациях посадка леса может оказаться совершенно бесполезный, а иногда и вредной, в первую очередь для природы. Подробнее об этом можно прочитать в предыдущих статьях:
В этой же статье кратко сформулируем основные случаи, в которых посадка леса может причинить природным экосистемам и ландшафтам существенный вред (к сожалению, таких случаев немало, и они становятся все более серьезной экологической проблемой).
1. Посадка леса на месте других ценных природных экосистем, особенно редких и находящихся под угрозой исчезновения в масштабах региона, страны или даже всего мира. Чаще всего это касается посадки леса в степной зоне - естественных степей осталось очень мало, глобально это даже более угрожаемый тип ландшафтов, чем леса, и уничтожение каждого оставшегося участка усиливает эту угрозу и добивает степное биоразнообразие. В степной зоне много разных участков, где леса сажать можно и нужно - например, на залежах (пашне, больше не нужной сельскому хозяйству), на эрозионно-опасных участках вдоль растущих оврагов и крутых склонов, на сплошь занятых инвазивными видами растений пустошах и т.д., но именно на участках естественных степей - точно не нужно. Не всегда эти участки легко отделить от всех остальных, но, поскольку в степной зоне риск их случайного уничтожения очень велик, в спорных случаях посадке леса должно предшествовать обследование участка специалистами (например, ботаниками, ландшафтоведами и т.д., хорошо знающими степную растительность). Степями дело не ограничивается - случаются попытки посадить лес, например, на верховых болотах, в безлесных высокогорьях, в лесотундре и т.д. И даже в самих лесах посадка может навредить, если, например, на месте богатого местными видами широколиственного леса сажаются монокультуры какой-либо не характерной для соответствующей природной зоны коммерческой лесной породы (ели, сосны, или даже чего-нибудь экзотического). В лесах обычно риск такой угрожающей биоразнообразию посадки ниже, чем в степях - но, если речь идет о какой-либо особенно ценной природной территории, перед крупными посадками лучше тоже обсудить планы со специалистами-биологами.
2. Посадка леса на непродуктивных или низкопродуктивных землях. Если лес сажается для выращивания хозяйственно ценной древесины, или для обеспечения каких-то экологических функций, связанных со скоростью накопления древесной биомассы (например, для поглощения и связывания углекислого газа) - продуктивность земли очень важна. Продуктивность - это комплексный показатель, зависящий от многих факторов (в первую очередь - плодородия почвы и климата), определяющий потенциальную скорость роста деревьев и древостоя в целом. Если продуктивность низка, то попытки вырастить ценную древесину за сколько-нибудь адекватное время, с приемлемыми затратами труда и времени работников (не только на посадку, но и на весь последующий уход), скорее всего, окажутся неудачными. То же самое с увеличением поглощающей способности лесов: при низкой продуктивности скорость накопления углерода, связанного в лесной экосистеме, будет ничтожной - десятки лет могут уйти только на то, чтобы компенсировать его выбросы, прямо или косвенно связанные с самой посадкой. В лесном хозяйстве главным показателем продуктивности лесных земель является бонитет - класс продуктивности, вычисляемый исходя из скорости роста деревьев в высоту. Как правило (если со всем остальным - все в порядке), посадка леса имеет смысл в лесах высокой продуктивности - не ниже II бонитета; при III бонитете надо уже внимательно смотреть - а не глупость ли мы делаем, а при IV и ниже - можно практически не сомневаться, что с точки зрения выращивания древесины или накопления запасов связанного углерода посадка никогда не оправдает затраченные силы и средства. Поскольку бонитет, соответствующий конкретному месту посадки, не всегда можно определить, можно примерно ориентироваться на природную зону или подзону: в лесотундре и северной тайге посадка леса практически всегда бессмысленна, в средней тайге - зависит от конкретной ситуации, в южной тайге и южнее - с точки зрения продуктивности, посадка леса обычно имеет смысл. При этом негативное воздействие на лес связанных с посадкой работ (повреждение почвы и напочвенного покрова, увеличение пожарных и санитарных рисков и т.д.) никуда не денется, на низкопродуктивных землях его следы сохраняются даже дольше.
3. Посадка инвазивных или потенциально-инвазивных инородных видов деревьев и кустарников. Строго говоря, она запрещена действующим законодательством, но формулировка довольно мутная ("в лесах запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, несвойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения" - п. 39 Правил санитарной безопасности в лесах), поэтому запрет нередко нарушается даже самими органами управления лесами. Но если не хочется навредить - то про этот запрет всегда нужно помнить. Многие виды древесных растений, которые сейчас активно засоряют естественные лесные экосистемы в разных регионах России и серьезно угрожают их природному биоразнообразию, когда-то интенсивно разводились людьми из самых добрых побуждений (ясенелистный клен, красный дуб, робиния и т.д.). И не только древесных - всем известны проблемы с борщевиком Сосновского, канадским золотарником и другими растениями-агрессорами. Не всегда инвазивность и агрессивность того или иного дерева можно определить заранее, и не всегда она проявляется сразу. Поэтому общее правило хорошего тона в отношении инородных видов должно быть примерно таким (смысл его примерно тот же, что в вышеприведенной цитате из Правил санитарной безопасности): не стоит сажать в лесах или рядом с ними никакие инородные виды деревьев, если есть хотя бы подозрение в том, что они могут стать инвазивными, а если подозрения пока нет - то не стоит их сажать без какой-то явной необходимости. Даже если это какие-то любимые или сакральные деревья - например, кедры (кедровые сосны) или орехи вдали от своего естественного ареала.
4. Посадка леса там, где навредить могут даже не сами высаженные деревья, а связанные с посадкой технологические операции (например, террасирование или подготовка плужных борозд на эрозионно-опасных склонах, особенно в лесах водоохранного назначения, или создание сети лесных дорог в ранее неосвоенных лесах, особенно там, где новые пути проникновения людей в лес ведут к сильному росту числа лесных пожаров). Самый очевидный пример - центральная экологическая зона Байкальской природной территории. Любой распространенный в российском лесном хозяйстве способ подготовки почвы под посадку немедленно приведет к резкому росту эрозии и смыву в Байкал больших дополнительных объемов грунта и растворимых веществ, усилит загрязнение озера. А необходимое для расчистки площадей под посадку и для самой подсадки создание сети лесных дорог неизбежно увеличит число людей в лесах и число пожаров - в результате лесов сгорит точно больше, чем будет посажено (да и сами посадки с большой вероятностью тоже сгорят).
5. Посадка лесов (особенно хвойных) там, где это может серьезно увеличить локальную пожарную опасность - например, в густонаселенных районах вдоль границ леса с поселениями, дорогами, участками массового отдыха людей. Даже согласно официальной классификации природной пожарной опасности лесов (приказ Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287), хвойные молодняки, в том числе искусственного происхождения, относятся к наивысшему (первому) классу опасности, а лиственные - в зависимости от типа леса, к одному из двух низших (четвертому или пятому). Если, например, сплошную санитарную рубку, примыкающую к району жилой застройки или к крупной дороге, до самого края засадить сосной - есть большой риск, что посадки погибнут от травяного пала или низового пожара, и такое в густонаселенных районах действительно происходит весьма регулярно. А вот если на полосах шириной в несколько десятков метров вдоль границы с застройкой или дорогой ничего не сажать - в абсолютном большинстве случаев она очень быстро зарастет молодым лиственным лесом, несравнимо менее пожароопасным, чем молодые посадки сосны. То есть если лес на этой полосе не сажать - он и вырастет быстрее (правда, не хвойный, а лиственный), и сам практически точно не сгорит, и, скорее всего, защитит от огня более удаленные от поселения и дороги участки. В большинстве случаев для этой цели достаточно оставить под естественное зарастание полосу шириной в 20-50 метров, хотя иногда может понадобиться и более широкая полоса - например, в сотню метров.
6. Посадка леса на старых вырубках и гарях, на которых уже естественным образом сформировался молодой лес (который ради этой новой посадки тем или иным способом уничтожается). Как бы абсурдно это ни звучало, но такое в практике нашего лесного хозяйства время от времени происходит - просто потому, что "сажать надо (планы горят, начальство требует и т.д.) - а больше негде", причем самостоятельно выросший лес вовсе и не числится лесом. Случается, что уже вполне сомкнутый и крупный молодой лес, высотой иногда метров десять и больше, сносится бульдозерами целиком, деревья сгребаются в валы или вывозятся, а на их месте сажается новый - более мелкий, но "бюрократически правильный". Если самостоятельно выросший лес таковым не числится, то статистику по "вырубленным и погибшим" его уничтожение нисколько не ухудшает - зато новый, свежепосаженный, однозначно улучшает статистику по "площадям лесовосстановления и лесоразведения".