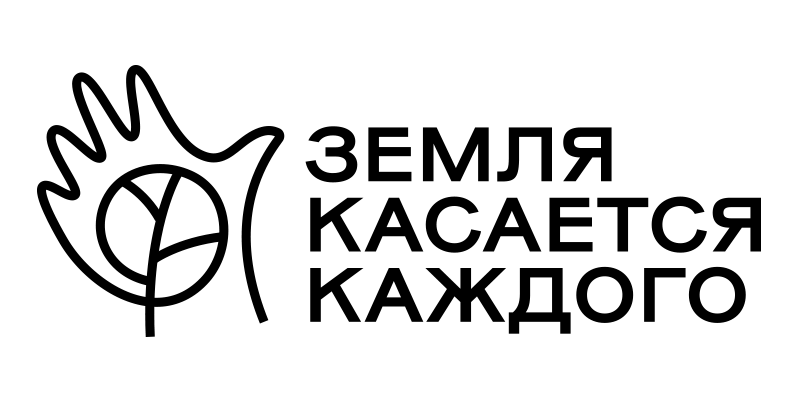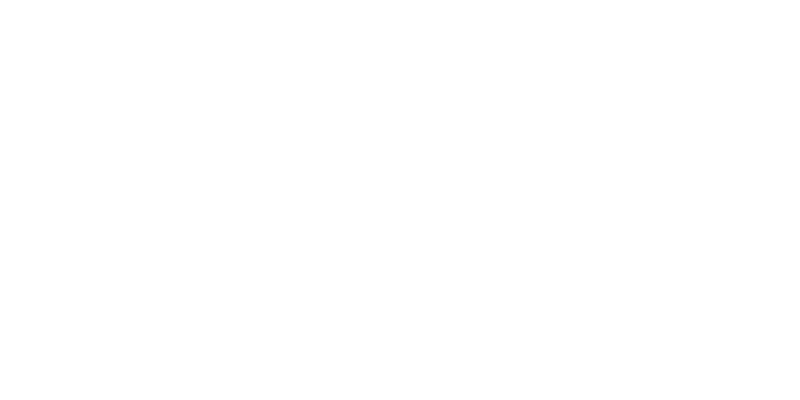Современная система управления лесами России во многом основывается на мифах (заблуждениях) - устойчивых ложных представлениях о том, как живет лес и как устроено, или должно быть устроено, лесное хозяйство. Для понимания этой системы надо представлять, в чем состоят лесные мифы, откуда они взялись, и как влияют на принимаемые управленческие решения. А для изменения системы - с мифами придется бороться, иначе на их основе вырастет примерно настолько же неэффективная новая система. Ссылки на все публикации о вредоносных лесных мифах:
Правда ли, что результаты труда лесовода увидят лишь его внуки
Правда ли, что рубки в пределах расчетной лесосеки и прироста - неистощительны
Правда ли, что сеянцы с ЗКС сделают лесовосстановление успешным
Правда ли, что можно победить лесной хаос, вернув прежнее управление лесами
Лес и растущую в нем древесину принято относить к возобновляемым природным ресурсам, которые, если их правильно и неистощительно использовать, никогда не заканчиваются. Согласно ГОСТ Р 56695-2015, неистощительным считается пользование лесом в таких объемах и такими способами, которые обеспечивают его стабильное продолжение в течение оборота рубки или бесконечно долго. В качестве основного критерия неистощительности часто используется соотношение между объемами ежегодной заготовки древесины и расчетной лесосекой - рассчитанным по специальным правилам допустимым объемом этой заготовки. Иногда в качестве такого критерия используется соотношение между рубками и приростом (но редко, поскольку точное определение прироста древесины в лесах требует специальных и довольно сложных исследований). Разумеется, понятие неистощительности относится не к конкретным выделам или лесосекам, а к довольно крупным лесным территориям - например, лесничествам (по которым как раз и считается расчетная лесосека), арендным участкам, регионам, стране в целом. Обычно предполагается, что если объемы рубок не превышают расчетную лесосеку и (или) прирост лесов по соответствующей территории - то лесопользование является неистощительным. И тем более, если объемы рубок составляют лишь малую долю от расчетной лесосеки и прироста.
Если бы это было действительно так, то лесопользование в России и в любом из ее лесных регионов было бы заведомо неистощительным, никак не способным привести к исчерпанию лесных ресурсов. Расчетная лесосека по России в целом составляет в настоящее время 635 млн м3, а естественный прирост древесины в доступных лесах по данным официальной статистики (ЕМИСС, по состоянию на 2023 год) - 870 млн м3. При этом учтенная заготовка древесины в целом по стране - всего около 200 млн м3 в год (194,3 в 2024 году). Если добавить к этому максимальные оценки неучтенной заготовки и всевозможного лесного воровства, общий объем годовой заготовки может достигать примерно 250 млн м3. Таким образом, расчетная лесосека в масштабах страны сейчас используется примерно на треть или, с учетом воровства, чуть больше, а официальный прирост по доступным лесам - примерно на четверть.
На самом деле, ни расчетная лесосека, ни прирост древесины не определяют возможный уровень неистощительного использования лесов. При определенных (к сожалению, нередких) условиях заготовка древесины может быть истощительной, даже если она составляет десятую долю от расчетной лесосеки и (или) прироста. Причин сразу несколько - начнем с тех, которые относятся в основном к приросту лесов (естественному показателю их развития и продуктивности), и закончим теми, которые относятся к расчетной лесосеке (административной величине). Очень важно учитывать, что все перечисленные ниже причины действуют одновременно, совместно, усиливая действие друг друга.
Во-первых, далеко не вся древесина, которая прирастает в лесах, может быть вырублена и использована человеком. В спонтанно развивающихся лесах, где не ведется никакого целенаправленного лесного хозяйства, основная часть прироста приходится на древесину дровяного качества, спрос на которую, как правило, очень ограничен (и часто неплатежеспособен). Экстенсивное лесопользование только усугубляет эту ситуацию, приводя в большинстве случаев к смене пород после интенсивных рубок (коренные хвойные или твердолиственные леса сменяются производными мелколиственными, обычно несравнимо менее ценными в хозяйственном отношении). А лесозаготовителям, чтобы оставаться экономически жизнеспособными, обновлять технику и оборудование, платить зарплату работникам и налоги государству, строить и поддерживать лесные дороги и т.д., нужна ценная древесина, пригодная для дальнейшей переработки, в первую очередь крупный пиловочник (то, из чего делают пиломатериалы) и фанерный кряж. То есть сама собой в лесах растет, особенно после массовых бесхозяйственных рубок (попадая и в прирост, и косвенно в расчетную лесосеку) преимущественно дровяная древесина - а лесозаготовителям необходима преимущественно деловая, причем в основном самая крупная и качественная. Выходов из этой ситуации может быть два: или вести в лесах полноценное правильное лесное хозяйство (одна из основных задач которого как раз в том и состоит, чтобы максимально увеличивать долю наиболее ценной древесины в общем приросте лесов), или выбирать из спонтанно растущих лесов самые ценные кусочки, где доля ценной древесины выше. Если полноценного лесного хозяйства нет или почти нет (а это как раз типичная наша ситуация) - то остается только второй вариант: из довольно большого объема прирастающей в лесах всякой древесины выбирать то, что имеет хозяйственную ценность и может быть использовано. И тогда запасы всякой древесины будут расти, создавая иллюзию лесного изобилия - а вот запасы хозяйственно ценной древесины, заготовка которой рентабельна, будут неуклонно сокращаться. И рано или поздно сократятся до того уровня, при котором устойчивая работа лесозаготовительного предприятия станет практически невозможной.

Во-вторых, в состав доступных лесов и при определении официального прироста, и при исчислении расчетной лесосеки, включаются огромные территории, которые в реальности недоступны ни для рентабельной заготовки древесины, ни тем более для полноценного лесного хозяйства. При определении прироста к недоступным относятся только резервные леса (приказ Рослесхоза от 29 декабря 2022 года № 1058) - формальная категория, составляющая всего около четверти российских лесов, где официально в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В реальности даже по чисто экономическим причинам для заготовки древесины недоступна, и вряд ли когда-нибудь будет доступна, примерно половина площади российских лесов, а для полноценного лесного хозяйства - примерно две трети. При исчислении расчетной лесосеки в расчет не включаются спелые и перестойные лесные насаждения с запасом древесины 50 м3 на гектар и менее (приказ Рослесхоза от 27 мая 2011 года № 191). В реальности рентабельная заготовка древесины возможна, даже при наличии развитой лесной инфраструктуры, в насаждениях с запасами в 100-120 м3 на гектар и более. В районах со слаборазвитой лесной инфраструктурой (то есть, например, в таежной зоне - почти везде) рентабельная заготовка возможна только там, где хозяйственно ценные насаждения располагаются хотя бы относительно компактными массивами, оправдывающими строительство новых дорог и проездов - это при определении доступного прироста и расчетной лесосеки тоже не учитывается. Кроме того, при определении и доступного прироста, и расчетной лесосеки, в расчет берутся немалые площади лесов, в которых заготовка древесины по закону сильно ограничена или усложнена (часто до такой степени, что при соблюдении всех требований она становится просто нерентабельной). Включение в расчет больших площадей реально недоступных лесов раздувает и как бы доступный прирост, и расчетную лесосеку - что ведет к фактическим перерубам в лесах доступных (настолько, насколько позволяют возможности лесозаготовительных организаций). И это тоже ведет к постепенному сокращению площадей и запасов лесных насаждений, пригодных для рентабельной заготовки древесины.
В-третьих, для получения адекватных и актуальных данных о приросте лесов и о расчетной лесосеке нужна столь же адекватная и актуальная исходная информация, главным образом материалы лесоустройства нормального качества и с неистекшим сроком давности. Теоретически данные о приросте могла бы давать государственная инвентаризация лесов - но методика первого цикла ее проведения (2007-2020 гг.) не предусматривала определения прироста, а второй пока только начался и проводится вообще без ясной методики. Порядком исчисления расчетной лесосеки возможность использования данных ГИЛ не предусматривается вовсе. Так что единственная возможная основа - первичные данные лесоустройства, таксации лесов. А они с неистекшим сроком давности есть менее чем по 1/5 части российских лесов, причем качество вызывает самые серьезные сомнения даже там, где срок действия как бы еще не истек. Средняя по стране давность материалов лесоустройства уже приближается к тридцати годам - а это, особенно для районов пионерного освоения тайги (где сплошные рубки и связанная с ними инфраструктура проникают в ранее дикие лесные массивы), означает катастрофический разрыв между этими материалами и реальностью. Конечно, для расчетов эти данные как-то актуализируются, но это совсем не заменяет свежих и точных данных. В результате определение доступного прироста и расчетной лесосеки все сильнее напоминает гадание, например, на кофейной гуще, причем сильно несвежей и утратившей часть своей предсказательной способности.

В-четвертых, расчетная лесосека (все последующие пункты относятся уже только к ней) по действующему законодательству исчисляется по лесничествам, а заготовка древесины в основном осуществляется арендаторами на предоставленных им лесных участках, каждый из которых обычно представляет собой лишь малую часть лесничества. Как именно расчетная лесосека, определенная для лесничества в целом, должна делиться между арендными участками в границах этого лесничества - законодательством вообще не определено. На практике это может приводить к завышенным объемам заготовки по отдельным лесным участкам, особенно в ситуациях, когда лесничество большое и разнообразное, и далеко не полностью порезано на участки и передано в аренду.
В-пятых, расчетная лесосека может считаться по нескольким разным формулам, включая так называемые расчетные лесосеки равномерного пользования, первую и вторую возрастные, интегральную. В некоторых случаях они могут давать принципиально разные результаты, в разы отличающиеся друг от друга, при этом правила выбора конкретного вида расчетной лесосеки довольно условны и примерны. Вторая возрастная и интегральная, и в особенности - первая возрастная, нацелены на ускоренную рубку спелых и перестойных лесов. Более того - там, где хозяйственно ценные леса уже сильно истощены, расчетная лесосека позволяет их добить за весьма короткие сроки (хвойные и твердолиственные семенного происхождения - от десяти лет).
В-шестых, и это уже мелочь по сравнению со всем вышеизложенным - для исчисления расчетной лесосеки до сих пор используется очень старый подход, разработанный немецкими лесоводами (в частности, Георгом Гартигом) больше двухсот лет назад. В российском лесном хозяйстве он применяется уже более полутора столетий, и за прошедшее время принципиально не изменился. Подход очень упрощенный, и не учитывает многих важных показателей - например, прироста лесов, разнообразия правовых режимов разных участков леса, их доступности, детальных данных о составе и т.д. Это было вполне оправданным в эпоху, когда большинство лесных данных хранилось в бумажных томах таксационных описаний, а большинство расчетов делалось с помощью счет или арифмометров. К сожалению, в отношении качества лесных данных мы пока недалеко ушли от той эпохи (и не всегда очевидно, в каком направлении ушли) - поэтому пока использование таких старинных подходов не создает больших дополнительных проблем. Но на будущее надо понимать, что расчетная лесосека, определенная по старинным упрощенным формулам - это не более чем оценочное суждение о том, сколько примерно можно было бы ежегодно заготавливать древесины, если бы в лесу завелось лесное хозяйство.
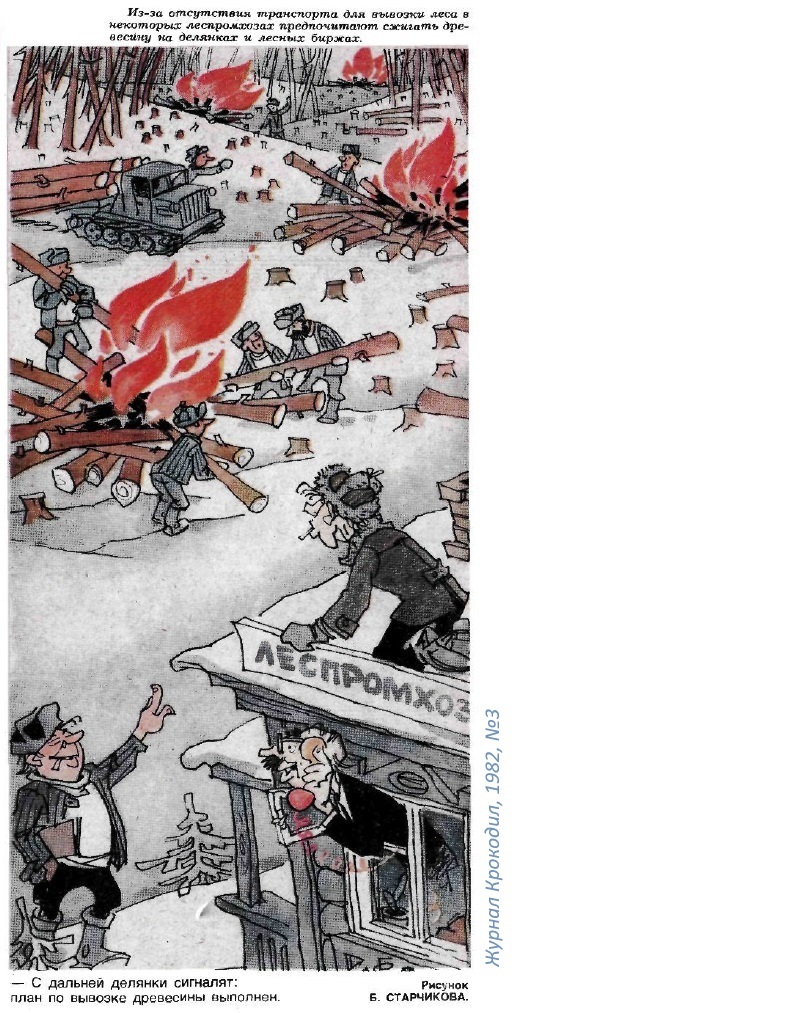
Вывод: если ежегодные объемы заготовки древесины не превышают ни расчетную лесосеку, ни прирост древесины по какой-то лесной территории (арендному участку, лесничеству, региону, стране), или даже составляют малую часть от расчетной лесосеки и прироста - это еще не говорит о неистощительности лесопользования. При долгосрочном отсутствии правильного лесного хозяйства даже низкоинтенсивное лесопользование с заготовкой ¼ прироста или расчетной лесосеки и даже менее, может быть истощительным и приводить к исчерпанию наиболее ценных лесных ресурсов, обеспечивающих экономическую стабильность и жизнеспособность лесных предприятий. Что мы, собственно, и наблюдаем почти во всех наших таежных лесах, и не только в таежных.